| В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон
СКВОЗЬ "УМСТВЕННЫЕ ПЛОТИНЫ" |
| В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон
СКВОЗЬ "УМСТВЕННЫЕ ПЛОТИНЫ" |
"Рука всевышнего Отечество спасла"
Угрозы и увещеванияС 1825 года начал выходить "Московский телеграф", один из лучших журналов пушкинской эпохи. Николай Алексеевич Полевой, издатель журнала, привлек к сотрудничеству передовых писателей и литераторов. Близкое участие в делах журнала принимал Петр Андреевич Вяземский.
Он имел обширные связи в литературном мире; благодаря его усилиям в журнале печатали свои статьи, стихи и корреспонденции известнейшие писатели того времени: Пушкин, Жуковский, Баратынский, Козлов, Языков, Василий Львович Пушкин и другие. Иностранные книжные новинки (их доставлял из-за границы Александр Иванович Тургенев) способствовали широте информации "Московского телеграфа". А.И. Тургенев умудрялся присылать книги и журналы, минуя таможенный осмотр. Это было очень кстати! Он снабжал Вяземского "контрабандной" литературой, ввоз которой в Россию был запрещен цензурой иностранных книг. У А.И. Тургенева была тьма знакомых, он был близок со многими дипломатами, а, как известно, дипломатическая почта не подлежала осмотру. Минуя таможенные шлагбаумы, иностранные книги и журналы появлялись в Москве. В критических статьях и библиографических обзорах "Московского телеграфа" печатались отзывы об этих запрещенных изданиях: журнал был "окном в Европу" для русского читателя.
Энциклопедическая разносторонность, злободневность многих статей журнала сразу же принесли "Московскому телеграфу" заслуженную славу прогрессивного издания. А в те годы стоять во главе независимого журнала было нелегким занятием. К чести Полевого и Вяземского, неудача восстания декабристов на Сенатской площади не испугала их, не обескуражила: с 1826 года "Московский телеграф" все более и более становится трибуной оппозиции. Естественно, что номера журнала не залеживались на полках.
Успех "Московского телеграфа" воодушевил Полевого; в середине 1827 года он задумал расширить свою деятельность и начать выпуск еще двух повременных изданий: газеты "Компас", "в которой немедленно и кратко должны быть сообщаемы новости политические и литературные", и журнала "Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы". Предвосхищая издания подобного типа (вплоть до изданий середины XX века!). Полевой стремился дать и массовому читателю и специалистам возможно больше самых разнообразных сведений - как общественных, так и литературных.

Н.С. Мордвинов
Фрагмент портрета работы Дж. Доу (1826-1827)Полевой послал прошение в Петербург. К его просьбе благожелательно отнеслись член Главного цензурного комитета адмирал Николай Семенович Мордвинов (единственный член следственной комиссии по делу декабристов, отказавшийся подписать смертный приговор) и министр народного просвещения Шишков. Они были непрочь взять под покровительство "чисто-русское дарование" купца второй гильдии Полевого. И тут-то произошло непредвиденное: министру народного просвещения пришлось пойти на попятный. Что же случилось? Вмешалось всесильное III Отделение.
Историк русской литературы академик М.И. Сухомлинов еще в конце прошлого века нашел в архиве и напечатал тексты трех анонимных записок, посвященных "Московскому телеграфу" [1]. Даты этих безымянных доносов - 19, 21 и 23 августа 1827 года, т.е. то самое время, когда Полевой энергично хлопотал о разрешении издавать новый журнал и газету. М.К. Лемке, автор капитального труда "Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов по подлинным делам Третьего отделения...", перепечатавший эти доносы, и за ним все позднейшие исследователи не сомневались в авторстве Фаддея Булгарина. "Компас" угрожал его монополии, и естественно было предполагать, что он поспешил отвести нависшую угрозу. Однако М.К. Лемке, допущенный в архив III Отделения в конце 1904 года, не успел сверить почерк этих трех доносов с почерком Булгарина. Опасаясь, что ему запретят работу в этом ценнейшем архиве, ученый спешил переписать как можно больше новых, еще неизвестных документов. Действительно, до сверки почерка руки не дошли: в декабре 1906 года двери архива закрылись перед ним.
Между тем эти три доноса сохранились до наших дней: все они написаны почерком управляющего канцелярией III Отделения фон Фока, но их "идейным вдохновителем" можно, не опасаясь ошибиться, считать Булгарина. В "Записке с предложениями о наблюдении за военными" (1830) Булгарин писал, что к фон Фоку "все честные люди имеют доверенность, зная, что он не употребит ее во зло. Пишущий сии строки за миллионы не имел бы ни с кем дело по сему предмету, а с М.Я. фон Фоком он откровенен, единственно потому что он честен и умен" [2]. "Откровенные" разговоры Булгарина с управляющим канцелярией III Отделения дали богатый материал для трех записок-доносов на Полевого. "Труды" Булгарина не пропали даром: ходатайство издателя "Московского телеграфа" было отклонено. Четыре года спустя, осенью 1831 года. Полевой вновь подал прошение о преобразовании своего журнала. Он предлагал, помимо "Московского телеграфа", который стал бы выходить четыре раза в год, выпускать еженедельные прибавления к нему. И снова последовал отказ: "Не дозволять, - начертал Николай I, - ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего".

Карикатура Н. Степанова на Н.А. Полевого
Доносы 1827 года не только помешали Полевому расширить свою журнальную деятельность, но и привели к закулисному "ходу конем" против "Московского телеграфа": правительство отправило назидательное письмо Вяземскому. Оно было написано бывшим арзамасцем, ныне приверженцем Николая I - Д.Н. Блудовым, вскоре ставшим министром внутренних дел. Это "частное" письмо, посланное за подписью Блудова, дает понятие о том, как осуществлялось иногда давление на журналистов в те годы. Вот русский перевод (подлинник по-французски) этого примечательного письма:
"Вы хотели знать мое мнение о Телеграфе; я сообщу вам его и предупреждаю вас, что это не только мое личное мнение. Находят, что в этом журнале встречаются интересные статьи, остроумные и справедливые замечания; но есть также страницы, о которых высказываются иначе. И не погрешности против стиля и вкуса вызывают главные возражения: дело заключается в некотором духе едкости и осуждения, в известном стремлении высказывать и напоминать ложные положения, превозносить людей, широко известных по их неистовой оппозиции, почти враждебной их правительствам; наконец (потому что именно это сочли возможным заметить в некоторых пассажах), двусмысленности и намеки, которые были бы преступными, если бы подобное предположение оказалось справедливым.Прервем на время чтение письма и обратимся к заинтересовавшей Блудова статье "Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С.Д.П.)". Статья была написана Полевым, а вставка в нее о погибших друзьях - Вяземским. В этой статье Полевой писал:Вы, без сомнения, будете возражать и скажете, что Вы не можете нести ответственность за различные толкования; но я, со своей стороны. Вам скажу, что для того, чтобы быть совершенно в ладу со своей совестью, не всегда достаточно не иметь дурного намерения: неосторожность также является виной. В век, духовно больной, как тот, в котором мы живем, порою мысль невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого как ради самого себя, так и ради правительства.
Таким образом, замечено, например, и обращено внимание на то, что в № 1 Телеграфа, стр. 6, наша литература сравнивается с запретной розой, а на стр. 8 ставится вопрос: что сделали русские в течение двух последних лет? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже Вы говорите: в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лег!.. Я не могу поверить, чтобы Вы, <...> говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль" [3].
"Мне выпало писать к тебе о русской литературе, и признаюсь: выпал жребий не легкий!Не менее вызывающим был намек на декабристов, сделанный Вяземским:Оно кажется сначала и не так тяжело: со времени двухлетней отлучки твоей, с тех пор, как ты сам перестал быть внимательным наблюдателем литературы отечественной, участь ее мало переменилась. Эта запретная роза остается по-прежнему запретною: соловьи свищут около нее, но, кажется, не хотят и не смеют влюбиться постоянно и только рои пчел и шмелей высасывают мед из цветочка, который ни вянет, ни цветет, а остается так, в каком-то грустном, томительном cocтoянии" [4].
"В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время <...> Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади):
Одних уже нет,
другие странствуют далеко?" [5]Вяземский частично привел эпиграф Пушкина к "Бахчисарайскому фонтану":
"Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече.
Сади".
Приноровление эпиграфа к воспоминанию о декабристах вывело из себя Николая I и его помощников; это отразилось в письме Блудова: в строках о пушкинском переводе Саади чувствуется раздражение и вместе угроза.Вряд ли Вяземский мог утаить от Пушкина полуофициальное послание Блудова, Читал ли Пушкин это письмо своими глазами или Вяземский пересказал его своему другу, но так или иначе Пушкин несомненно был осведомлен, что отныне правительство воспринимает цитату из Саади как намек на судьбу декабристов. Тем знаменательнее, что, заканчивая восьмую главу "Евгения Онегина", он вновь напомнил о своем эпиграфе к "Бахчисарайскому фонтану":
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал,
Без них Онегин дорисован.Продолжим, однако, чтение письма Д.Н. Блудова к Вяземскому:
"Замечания не ограничиваются этой статьей: в вашем № 7, стр. 195, 196 и 197, обратило на себя внимание то, что вы говорите о гак называемой стачке или согласии господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения в том, что талант Байрона замечателен; но известно, какое печальное употребление он часто делал из него, известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирали мрачные, почти доходящие до ненависти страсти вследствие своего рода гордого отвращения ко всему, что имеет право на уважение и любовь человечества; что он долгое время был отъявленным врагом всех существующих установлений, всех признанных верований, морали и религии, даже естественной религии.Блудов ссылался на статью Вяземского о сонетах Адама Мицкевича, в которой автор писал:Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов; я хотел бы верить, что это не так, и в случае надобности было бы достаточно привести примеры Карамзина и Вальтера Скотта, чтобы доказать противное. Также отмечены были в №№ 4 и 6, стр. 133-150 и 112-133, 144, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо, политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей. Кажется, что эти статьи переводные, и перевод, быть может, сделан не вами; но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала".
"...в нашем веке невозможно поэту не отозваться Байроном, как романисту не отозваться В. Скоттом <...> Такое сочувствие, согласие нельзя назвать подражанием: оно, напротив, невольная, но возвышенная стачка (не умею вернее назвать) гениев, которые, как ни отличаются от сверстников своих, как ни зиждительны в очерке действия, проведенном вокруг их провидением, но все в некотором отношении подвластны общему духу времени и движимы в силу каких-то местных и срочных законов. Каждый мыслящий человек определит дух времени, свойственный каждой эпохе: но мы, чтобы не увлекаться вдаль, оставили это выражение неопределенным" [6].В тех условиях Вяземский не мог более ясно выразить, что под "духом времени" он подразумевает оппозиционные устремления своей эпохи. Однако передовому читателю, равно как и правительству, была понятна мысль автора, выставляющего знаменем века поэзию Байрона."...Я вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность, - так заканчивал свое письмо Блудов, - хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства; существует еще более священная обязанность: долг совести и чести.Искусно переплетая посулы и угрозы, тянется замысловатая вязь конфиденциального послания. Даже тень Карамзина (Вяземский приходился ему шурином) вызвана на помощь для увещевания строптивца.Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают вам не только умеренность, покорность и верность, которых от нас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которые оно равным образом имеет право благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства: сохранения и улучшения всего существующего. Не утешительно ли думать, что всякий честный человек в своей особой сфере деятельности, какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства, желающего добра и только одного добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли стоит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманные поступки, часто имеющие последствия если не разрушительные, то по крайней мере прискорбные.
Итак, я вам говорю и повторяю: будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны; с вашим умом и вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, вы легко этого достигнете. Этот совет я вам передаю по повелению свыше; но в то же время это и совет друга; я даю его шурину того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет полного совёршенства. Я говорю вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему. Ввиду конфиденциального характера этого письма оно должно остаться между нами. Оно не требует ответа; самым лучшим ответом - и я надеюсь, что получу его, - было бы то известного рода покаяние, которого я желаю и требую от вас во имя всего, что вам дорого".
В письме Блудова к Вяземскому правительство ясно изложило свою литературную "программу": ставить всяческие препоны прогрессивной мысли.
Однако вернемся к "Московскому телеграфу". Как отразилось закулисное вмешательство властей на делах журнала? Вяземский вскоре покинул "Московский телеграф". Правда, причиной тому были в первую очередь его идейные разногласия с издателем журнала; в это время шло размежевание внутри оппозиционного лагеря: нарождавшийся буржуазный либерализм в лице Полевого вступал в борьбу с дворянской оппозицией, к которой принадлежал Вяземский. Но вежливые угрозы правительства также сыграли свою роль, вынудив Вяземского отойти от журнальной деятельности.
Казанский держиморда
Жанр деловых бумаг, казалось бы, не литературный жанр. Но порой в официальном отношении за номером таким-то четко проступает психология его "творца". И тогда даже жандармская переписка читается как увлекательная новелла.
28 февраля 1829 года начальник I Отделения V Округа корпуса жандармов подполковник Новокщенов писал из Казани Бенкендорфу:
"С тех пор как изменился ценсурный устав, высочайше утвержденный в 10-й день июня 1826 года, периодические наши издания, сбросив покрывало скромности, приличия и умеренности, обнаружили вольнодумные мысли, неприличные выражения и слова, оскорбляющие чистоту нравов. Мелкие сочинения, наводняющие нашу литературу, также направлены к разврату, самому открытому.Трудно себе представить более характерный документ эпохи. Тут и боязнь отмены "чугунного" устава 1826 года, и наивная вера казанского жандарма, что стоит вызвать Надеждина (писавшего под псевдонимом Никодим Надоумка) в III Отделение, как он укажет поименно всех "злоумышленников" русской литературы. Литературную полемику против Полевого (кстати сказать, в этой статье Надеждина были завуалированные выпады против Пушкина и Вяземского) провинциальный держиморда хотел использовать как документ полицейского сыска.А как произведения словесности подобного рода, удаленные от истинной цели, всегда были предтечами политических бедствий; то люди благонамеренные, страшась пагубного влияния на общественное мнение от сих сочинений, с крайним прискорбием взирают, что ценсура, сие охранение чистоты нравов, сей оплот благочестия, сия стража от вольнодумства, попускает ныне так небрежно печатать всякой вздор мыслей.
К чему, говорят они, такое пристрастие к германизму: Man kann, was man will? Что за непостижимые напевы поэзии, проповедующей скрытно и явно: высокие тайны ничтожества; направление умов к романтизму и байронизму; исторжение из общественного образования; еще не для всех настоящее без надежд и будущности; обходиться без торжественных истин религии; слова Тиверия: умерли боги!; таинственные покрывала; призывание к эпикуреизму; высокий философский гений - гость новых народов...
Что это значит? адский язык, беснующееся вольнодумство, исступление философизма, из северной Германии к нам отражающегося, повсеместные исчадия революции, пропаганда нечестия и изуверства! Но к чему нас знакомить с ними так тесно? Не вчера ли почти видели мы ужасные плоды подобного просвещения в нашем отечестве, видели: Кюфельбекеров <так!>, Рылеевых, Пестелей и проч.
Пора зажать богохульный рот сим зловещим проповедникам!
Но все сие зло относят к тому, что в самом настоящем уставе о ценсуре, высочайше утвержденном в 22-й день апреля 1828 года, сделана важная уступка свободе книгопечатания. Изменение государственного установления, то есть устава ценсурного 10 июня 1826 года, в короткое время его существования, породило в неблагонамеренных писателях самонадеяние, что новым ценсурным уставом предоставляется некоторым образом более свободы писать и печатать.
Слыша нередко подобные отзывы о периодических сочинениях, распространяющих весьма вредный дух, равным образом и о послаблении ценсуры; долгом поставляю довести оные до сведения вашего превосходительства, покорнейше прося обратить благосклонное внимание к обнаружению тех вредных лиц, о коих в Вестнике Европы № 2 1829 года упоминается под названиями: сонмище нигилистов, Флюгеровский, Чадский. Кант., Угар., Тленский. Автор сей пиесы, подписавшийся под именем: Никодим Надоумка, вероятно, откроет всю тайну вышеозначенных лиц; ибо он, кажется, с тем и написал сию статью, чтобы обличить буйство издателя Московского телеграфа и его сподвижников" [7].
Новокщенов даже осмелился поучать Бенкендорфа; в предельно вежливой форме он обвинял шефа жандармов: ведь тот не отстоял старый, более крутой цензурный устав. Это был, что ни говори, почтительный выговор начальству! Жандармский подполковник из лучших побуждений нарушил служебную субординацию, и Бенкендорф не замедлил осадить перестаравшегося блюстителя порядка - 16 марта из Петербурга в Казань, за подписью Бенкендорфа, была отправлена разгневанная отповедь:
"Вследствие донесения Вашего высокоблагородия от 28 февраля, под № 8, нахожусь принужденным объявить Вам, что мне весьма жаль, что Вы теряете время на рассуждения, которые вовсе до Вас не касаются, и что я должен заключить по изложенным в той бумаге мыслям, которые, конечно, не собственные Ваши, что Вы связались с людьми, разделяющими дух Магницкого" [8].Магницкий - гонитель просвещения в царствование Александра I - был не в чести у Николая I.Отставкой Аракчеева, Магницкого и некоторых других высокопоставленных лиц Николай I как бы отмежевывался от реакционного политического курса своего брата. Но смена лиц в правительственной верхушке не означала коренного изменения политики-просто сановники, уже скомпрометированные, были заменены новыми, которым еще предстояло запятнать себя. Магницкий был отставлен, но "дух Магницкого", от которого открещивался Бенкендорф, встал над империей Николая I,Самое примечательное в этой истории то, что жандармский подполковник не замолчал: он чувствовал, что "правда" на его стороне, что столичное начальство явно сплоховало, уступив духу времени - 8 апреля oн ответил Бенкендорфу:
"Имев честь получить предписание Вашего превосходительства от 16-го прошедшего марта № 1184, долгом поставляю донести в оправдание мое следующее:Бенкендорфу не оставалось ничего другого, как наложить резолюцию: "К сведению".1-е. Поводом к представлению моему от 28 февраля под № 8 был 1 пункт данной мне инструкции;По сим уважениям всепокорнейше прошу Ваше превосходительство великодушно мне простить и удостовериться, что я никак и никогда не в связях с людьми, разделяющими дух Магницкого, и позволено мне будет сказать, что, прослужа столько времени лет верою и правдою, могу ли ныне изменить долгу справедливости и жертвовать честию каким-либо непозволенным связям" [9].2-е. Полагая по крайнему уразумению моему превратное влияние словесности на общественное мнение предметом, всегда достойным внимания правительства;
3-е. Один из казанских помещиков, нисколько и никогда не принадлежавший к единомыслию Магницкого, сам приносил мне Вестник Европы, говорил с патриотическим чувством, удивлялся свободной литературе, каким образом дозволяют печатать статьи, показывающиеся иногда в Московском телеграфе;
4-е. Слыша и прежде того подобные рассуждения о печатании сего рода сочинений, я не мог оставаться в сём случае равнодушным и потому все то, что я слышал, принял смелость довести до сведения Вашего превосходительства.
Если мы вдумаемся в прочитанные документы, станет вчуже страшно. Галантное с филигранными завитушками письмо Блудова как будто писано под диктовку каменной челюсти казанского "спасителя отечества". Духовное родство Блудова и Новокщенова - вещь почти невероятная, и однако это так. Перед ними стояла одна цель: уберечь Россию от либеральной заразы, поддержать престол династии Романовых, сильно пошатнувшийся в грозный день 14 декабря 1825 года.
Цензор без страха и упрека
В царской России издание журнала было трудным ремеслом. Столкновения с цензурой были неизбежны для любого издателя, будь он даже семи пядей во лбу, будь он даже благонамерен и внимателен к видам правительства: не всегда попадешь в унисон с властью, порой можно попасть и на гауптвахту. Ведь известно, что даже Фаддей Булгарин, издатель полуофициозной "Северной пчелы", закадычный приятель III Отделения, заслуживал немилость и ночевал на казенной квартире. А насколько труднее было издателю оппозиционного журнала. В этих условиях назначение того или иного цензора часто решало участь издания.
Большой удачей для Полевого была смена цензора в конце 1828 года: вместо С.Т. Аксакова (недружелюбно относившегося к журналу) цензорами "Московского телеграфа" стали В.В. Измайлов и С.Н. Глинка. Последний был большим оригиналом и единственным в своем роде цензором. Его по праву можно назвать цензором без страха и упрека.
Сын небогатого дворянина Смоленской губернии, Сергей Николаевич Глинка воспитывался в Петербурге. в Сухопутном шляхетском корпусе. Директором этого учебного заведения в те годы был гуманный и просвещенный граф Ангальт. Учась в корпусе, Глинка много читал: Вольтер, Руссо, Дидро были его любимыми авторами. Вспоминая о годах Великой французской революции, Глинка писал:
"Граф Ангальт не говорил нам ни о каких отдаленных причинах переворота европейского мира, но, чтобы ознакомить нас с тогдашними обстоятельствами, учредил в нашем зале новый стол со всеми повременными заграничными известиями. В корпусе, а не по выходе из него, узнал я о всех лицах, действовавших тогда на обширном европейском театре. На том же столе помещены были ежемесячные русские издания: «Зритель» Крылова, «Меркурий» Клушина, «Академические известия» и «Московский журнал» Карамзина" [10].Учителем словесности в корпусе был известный писатель Яков Борисович Княжнин, автор тираноборческой трагедии "Вадим". Атмосфера, в которой воспитывался молодой Глинка, развила в нем восторженность, человеколюбие, терпимость. Глинка был идеалистом в лучшем смысле этого слова, человеком, свято верившим в добро, в могучую силу разума. Бескорыстный и правдивый, немного чудаковатый, он прожил нелегкую жизнь. Многие годы он бедствовал; он не умел наживаться, даже когда деньги, казалось, прямо шли к нему в руки. Во время Отечественной войны с Наполеоном Александр I предоставил ему 300 тысяч рублей для ведения пропаганды против иноземных поработителей. 300 тысяч рублей остались нетронутыми: Глинка предпочел быть безвозмездным трибуном...В 1826 году сильно нуждавшемуся Глинке было предложено место цензора:
"По случаю коронации прибыл в Москву министр просвещения А.С. Шишков, вместе с цензурным уставом. Главный сочинитель сего дивного творения, как гласит молва, был князь Пл.Алекс. Шихматов-Ширинский. От него получил я устав и, прочитав его, снова возвратил ему, говоря, что «в силу такого чугунного устава не могу быть цензором»" [11].Год спустя вечный недостаток в средствах вынудил все же Глинку занять пост московского цензора.

С.Н. Глинка
Вступая в должность, он обратился со следующими словами к товарищам по цензуре:
„Милостивые государи, - сказал я им, - если будем буквально руководствоваться уставом, то нам ни одного слова нельзя будет пропустить. Устав обязывает отыскивать двоякий смысл, а каждое почти слово подвержено перетолкованию. Я целый год отбивался от цензурного стула, потерял три тысячи жалованья, и теперь одна смертельная нужда заставила меня принять звание цензора. Вы можете поверить, что я вник в устав и что я удостоверился, что он недолго проживет. Но и при мимолетном его существовании мы накличем на себя много бед, если, повторяю еще, будем придерживаться буквам устава. А потому составим цензуру совещательную."Сам журналист и литератор (Глинка с 1808 по 1820 год издавал журнал "Русский вестник"), он был кровно заинтересован в процветании отечественной словесности: не тормозить ее развитие, а всячески способствовать ее успехам было его сокровенным желанием. Приняв должность цензора, Глинка - даже в условиях "чугунного" устава (судя по его воспоминаниям, это он так точно и образно окрестил детище Шишкова!) - думал не о себе, а о том, как надежнее оградить писателей от хитросплетений этого устава.Товарищи мои просили, чтобы я объяснил им, что значит цензура совещательная? Я отвечал: «Если в рукописях тех, которые постарее нас, заметим что сомнительное, то поедем к ним на дом для объяснения. А кто помоложе нас, того пригласим в комитет»" [12].
Цензурный устав 1828 года Глинка встретил с энтузиазмом. Он писал: "Со времени существования цензуры никогда не было такого свободного, такого льготного устава для мысли человеческой, каким казался устав 1828 года. С горестию повторяю: казался" [13]. Изнанку этого устава Глинка скоро испытал на самом себе.
Прочитав новый устав, Глинка кинулся к письменному столу и написал брошюру о свободе печати. Парадоксально, но факт: цензор российской империи - противник цензурного гнета! Правда, писать о свободе печати в России Глинка не осмелился; такую книгу, впрочем, и не разрешили бы. Он нашел остроумный выход: посвятил свой труд французской прессе.
8 июня 1828 года цензор В. Измайлов подписал разрешение на брошюру Глинки "Observations morales sur la presse periodique en France" - "Нравоучительные замечания о периодической печати во Франции". Это был географический маскарад - писалось: Франция, подразумевалось: Россия. Сам Глинка так писал об этой брошюре:
"В 1828 году происходили во Франции в палате пэров жаркие прения о законе касательно периодических изданий, т. е. ведомостей, журналов и т. п. И по званию цензора, и по привычке к наблюдению я с чрезвычайным вниманием вчитывался, так сказать, во все речи ораторов палат. Странно и досадно было мне видеть, что за все про все грозят - то тюрьмой, то денежной пеней. Признаюсь, что ни к селу, ни к городу затеял я быть рыцарем за достоинство мысли человеческой и написал на французском языке книжку...Яркий портрет Глинки-цензора нарисовал Ксенофонт Полевой, брат издателя "Московского телеграфа". Глинка был цензором этого издания, и Ксенофонт Полевой часто мог наблюдать за его работой. Прочтем же отрывок из "Записок" Ксенофонта Полевого:Издатель журнала "Revue Encyclopedique" оповестил о ней в декабре месяце 1829 года № 12, от стр. 474 и далее. Даря меня похвалами, он признался, что я справедливо изобличаю закон их о журналах... Декабрьская книжка "Revue Encyclopedique" была доставлена цензорами князю С.М. Голицыну, из чего он и заключил, что я агент каких-то тайных обществ.
Как бы то ни было, только в 1830 году приключилось, что в одно время король французов слетел с престола, а я с цензорского стула" [14].
"Говоря откровенно, Глинка не годился в цензора, когда от них требовали мелочной внимательности, и они не имели никаких определенных правил, что можно и чего нельзя было дозволить к обнародованию: «Как можно судить мысль и намерение человека? - говаривал Глинка - В самых невинных словах может быть злое намерение; а как я угадаю это?» Он выражал этим мысль справедливую в обширном смысле; но был несносен тем, что вследствие своих убеждений и своего характера подписывал все, не читая!..Казалось бы, при такой своеобразной методе С.Н. Глинка должен был незамедлительно "слететь" с цензорского кресла. А между тем он в течение нескольких лет был цензором. Как так? Для ответа на этот вопрос необходимо поговорить об автоцензуре.Он не только не скрывал этого, но говорил во всеуслышание, что действует именно так. Я сам слышал, как он повторял много раз: «Дайте мне стопу белой бумаги, я подпишу ее всю по листам как цензор; а вы пишите на ней что хотите! Да! Я не верю, чтобы нашелся такой человек, который употребил бы во зло доверенность цензора, когда притом он и сам отвечает за то, что пишет».
Когда он был цензором «Московского телеграфа», мы тщетно уговаривали его оставить избранную им систему; просили читать внимательно все присылаемое к нему для рассмотрения, исключать или, по крайней мере, замечать, что несогласно с инструкцией) цензору. Писатель не может знать множество отношений, известных только цензуре. Но, повторяю, убеждения были тщетны: Глинка подписывал одобрение цензорское на рукописях и корректурах, не читая их. Когда дозволено было предоставлять журнальные статьи на рассмотрение цензорам в корректурных листах, мы бывали иногда в затруднении: Глинка оставлял или забывал их у себя, и так как его большею частью не бывало дома, то случалось не раз, что уже вся книжка кончена набором, а цензор еще не подписал ни одного листа к печатанию; приходилось отыскивать его по городу, и он, где-нибудь отысканный, вдруг подписывал все листы.
Опыт доказал, однако ж, что система Глинки была не совсем дурна: он несколько лет оставался цензором и, кроме схватки с князем Голицыным, не получал никаких замечаний от высшего начальства, когда товарищи его, внимательные к тому, что прочитывали, не раз получали выговоры и замечания. Если не ошибаюсь, он был сменен и высидел две недели на гауптвахте за какую-то пустейшую статейку, где нашли личности против каких-то сановных лиц; но, прочитывая эту статейку с самым строгим вниманием, нельзя было открыть в ней ничего преступного, и всякий цензор подписал бы ее - и попал бы на гауптвахту!" [15].
В самодержавной России цензура начиналась не в кабинете цензора, а за письменным столом писателя: зная, что его произведение подлежит цензуре, писатель нередко удерживался от того, чтобы дать волю своему перу. Это и была автоцензура, погубившая несчетное число произведений в момент их зачатия, исказившая замысел и исполнение многих изданий. Дамоклов меч цензуры висел над головой писателя, обуздывая его смелые порывы, препятствовал высказать накипевшую горечь, не позволял с должной силой заклеймить общественные пороки и социальную несправедливость, побуждал прибегать к эзопову языку, к недомолвкам и обинякам. Даже трудно сказать, что пагубнее было для литературы - эта ли домашняя цензура, исподволь проникавшая в кровь и плоть писателя, или официальная цензура правительственных органов.
Вот поэтому-то мысль Глинки о том, что писатель не станет сознательно подводить доверяющего ему цензора, была психологически верна и оправдана жизнью: ведь помимо того, что элементарная человеческая порядочность побуждала оправдывать ничем не ограниченное доверие цензора, то же самое диктовала забота о собственном благополучии, о том, чтобы сохранить журнал. Словом, Глинка не без основания уповал на автоцензуру.
Вместе с тем, освободив "Московский телеграф" от мелочной и придирчивой опеки. Глинка давал возможность Полевому высказывать в печати все то, что было на грани дозволенного и терпимого высшими властями. Добрым словом надо помянуть такого редкого цензора, каким был Глинка.
На чем споткнулся Глинка? На статьях политического характера? Нет! Рассуждая на общие темы, Полевой и его сотрудники умело прикрывали свои оппозиционные взгляды верноподданническими фразами: автоцензура в подобных статьях вполне и даже с лихвой заменяла красный карандаш цензора. Нарекания вызвали другие и, на первый взгляд, менее значительные полемические статьи, задевавшие личности.
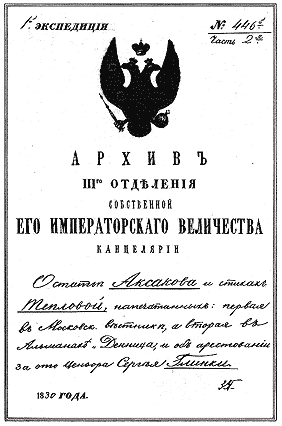
В январе 1830 года Глинка, по предписанию из Петербурга, был отправлен на гауптвахту за одобрение в печать сатирического фельетона (в журнале "Московский вестник"), где нашли намеки на личность министра юстиции Д.И. Лобанова-Ростовского, и за стихотворение поэтессы С.С. Тепловой (в альманахе "Денница"), написанное на смерть какого-то безвременно погибшего юноши; по наущению Булгарина, в этом стихотворении-эпитафии был усмотрен намек на декабриста Рылеева. Воистину, при недоброжелательности и враждебности любое безобидное произведение можно было представить опасным и злонамеренным. Недаром Глинка остроумно утверждал, что и молитву "Отче наш" можно перетолковать якобинским наречием.
Симпатии московского общества были целиком на стороне попавшего в беду цензора, все старались наперебой выказать ему свое сочувствие. Впрочем, арестантов на московской гауптвахте содержали тогда не слишком строго. Вот как писал об этом К. Полевой:
"Сначала его посадили на гауптвахту, бывшую во дворе сената (в Кремле). Когда знакомые Глинки - а кто не знал его в Москве? - услышали, что он сидит на гауптвахте, многие поехали навестить его. Число посетителей увеличивалось беспрестанно, так что через несколько дней сенатская гауптвахта представляла что-то вроде гулянья: подле нее было всегда несколько экипажей, и гостей у Глинки собиралось иногда так много, что в небольшой, занимаемой им комнате бывало тесно. Он был очень рад этому, встречал всех с веселым лицом, смеялся, шутил и говорил без умолку, или пел французские романсы, аккомпанируя себе на маленьком фортепиано, которое велел привезти себе из дому. К нему привозили всяких припасов, фруктов, вина, и он пировал сам и угощал посетителей".Как-то он напоил охранявших его солдат, и за эту провинность было приказано перевести его на главную гауптвахту."На другой день плац-майор явился для исполнения приказания коменданта, но не рано, когда у Глинки была уже толпа гостей. После нескольких обиняков, он объявил ему, что комендант приказал перевести его на главную гауптвахту. Глинка запрыгал и, прищелкивая, запел какую-то французскую песню. «Очень рад, очень рад!» - сказал он потом.Между тем донос на Глинку был признан неосновательным, и он, как без вины пострадавший, получил три тысячи от "щедрот монарших".«Приятно прогуляться по чистому воздуху! А приятели проводят меня», - прибавил он, обращаясь к своим гостям. «Фортепиано пойдут со мной под арест и туда: дайте же мне людей перенести их!» - сказал он плац-майору.
Вскоре все вещи Глинки были расхватаны гостями, слугами их и несколькими инвалидами; началось шествие от сената до Ивановской колокольни: впереди шел Глинка с плац-майором; вокруг них и позади толпа гостей арестанта, которые несли кто кисет, кто трубку его, кто кружку и все остальное. Тут же несли фортепиано. Все это составляло невиданную процессию, не унылую, а веселую и смешную импровизированную комедию" [16].
Однако следующая история окончилась не столь благополучно: в том же 1830 году он был уволен от должности цензора за то, что разрешил печатать в "Московском телеграфе" сатирический фельетон "Утро в кабинете знатного барина". В фельетоне Полевого была явная личность: намеки на престарелого князя Н.Б. Юсупова, того самого, которому Пушкин посвятил послание "К вельможе".
Вспоминая об этом эпизоде, Глинка писал:
"По возвращении моем из Петербурга, когда я явился в цензурный комитет, меня встретили торжествующие лица профессоров-цензоров. Они смотрели на меня с лукавою улыбкою и будто неумышленно спрашивали: читал ли я послание Пушкина к князю Ю<супову> <...>Из всех тогдашних цензоров лишь Глинка был способен так бесхитростно понимать цензурный устав. Неосмотрительно поступил Полевой, не вняв предостережению Глинки: поставив под удар друга-цензора, Полевой нанес непоправимый вред своему журналу.Между тем цензор Снегирев, читавший «Телеграф» в отсутствии моем, сказал мне откровенно, что десятая книжка «Телеграфа» ожидает моей подписи, т.е. та роковая книжка, в которой помещена была статья под заглавием: «Утро у знатного барина, князя Беззубова». В ней выставлен какой-то князь Беззубов, имевший собак Жужу, Ами и любовницу, какую-то Александру Ивановну, чистившую князя по щекам за то, что он упрекал ее за нескромное гулянье в Марьиной роще с французом, и снова заключившую с ним мир за ломбардный билет в двадцать тысяч.
Возвратясь из Петербурга за неделю до срока отпуска, я мог бы отказаться от цензурования этой книги «Телеграфа», но я всегда стыдился, как говорит пословица, чужими руками жар загребать. Взяв десятую книжку «Телеграфа», пошел я в типографию г. Семена; читаю: в глаза мне тотчас бросился стих из послания, предлагающий перетолкователям намек на князя Ю<супова>. Отправляют к издателю «Телеграфа» записку, прося его исключить этот стих. Получаю в ответ, что он не "намерен исключить ни одной буквы. Что же оставалось цензору? Повиноваться уставу, ибо он не дозволял цензорам никаких замечаний" [17].
Конец "Московского телеграфа"
Черные дни для Полевого наступили в 1833 году, когда министром народного просвещения был назначен Уваров. Получив повышение - до этого он был товарищем министра, - Уваров стал проводить еще более жесткую политику, чем его предшественник. 30 декабря 1833 года брат издателя Ксенофонт Полевой писал В.И. Карлгофу:
"Мы с Телеграфом подвигаемся раковым ходом и делаем и хлопочем более других журналистов, оттого, что и работаем усердно, да и цензурушка-голубушка заставляет часто делать вдвое, выключая целые статьи, искажая другие и вообще поступает с нами немилосердно. Особенно с тех пор, как министр просвещения - С.С. Уваров, цензоры с ума сошли. За невинную статью мою о Наполеоне он столкнул с места почтенного, заслуженного старика Двигубского и остальных загонял так, что они мечутся как угорелые кошки. Каково же литературе от этого? Каково нам? Представьте себе, что нам только 1 декабря позволили объявить о Телеграфе, таскают каждую книжку недели по три, по месяцу, потому что каждую строчку обсуживают полным присутствием цензуры, и проч." [18].Речь шла о статье Ксенофонта Полевого "Взгляд на историю Наполеона" (о книге Вальтера Скотта). Уваров счел эту статью злонамеренной и 24 сентября 1833 года подал на высочайшее имя записку, предлагая запретить "Московский телеграф". Однако вопреки ожиданиям Николай I не согласился с Уваровым и повелел лишь предупредить издателя журнала. Обозленный министр поручил Ф.И. Брунову - одному из своих чиновников - найти обвинительный материал против журнала Полевого. Брунов в точности исполнил волю своего патрона: собрал воедино выписки из "Московского телеграфа", в которых обнаруживался дух либерализма. Чтобы не утруждать начальство сплошным чтением своего "труда", ретивый чиновник подчеркнул те слова, на которые следовало обратить особое внимание: вот она крамола! Приведем наугад несколько примеров из тетради Брунова."О современниках. Будьте только выше их и делайте с ними, что хотите. Они выслушивают брань на все, что украшает и возносит век; будут смеяться даже над самими собою <...>Вооружившись, Уваров стал ждать подходящего случая, который не замедлил представиться.Один поэт чрезвычайно польстил одному римскому императору похвальною надписью, но когда, по умерщвлении императора, упрекали поэта в лести, то он оправдался тем, что слово, употребленное им, двузначительно и может быть истолковано: «всегда будет дураком» <...>
Франция долженствовала сделаться и сделалась местом того безмерного, векового события, которое целый мир назвал и целые века будут называть французскою революциею. Без сомнения, сей переворот был французский, но, бывши французским, он был столько же и европейский <...>
Лафает, самый честный, самый основательный человек во французском королевстве, чистейший из патриотов, благороднейший из граждан, хотя он вместе с Мирабо, Сиесом, Баррасом, Баррером и множеством других был один из главных двигателей революции <...>
При столь новом состоянии дел и умов во Франции, так называвшийся прежде большой свет спустил флаг. Он скончался как монархия великого короля <...>
Разин, Булавин, Пугачев были страшными, но тщетными усилиями казацкой свободы <...>
Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками. Латы распались в прах <...>
Жизнию народной свободы кипели Новгород и Псков" [19].

Н. Кукольник
Рисунок К. Брюллова15 января 1834 года на сцене Александрийского театра была поставлена верноподданническая пьеса Н.В. Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла".
"Сказывали, - писал в своих воспоминаниях Ксенофонт Полевой, - что 40 000 рублей было употреблено на постановку этой знаменитой пьесы, и самая блистательная публика наполняла ложи и кресла в первые представления ее на Александрийском театре. Государь император удостоил ее своим вниманием и одобрением. «Рука всевышнего» казалась патриотическою, народною драмою, перед которою преклонялись все - и знатные, и простолюдины. О ней не произносили ничего кроме похвал" [20].Впрочем, это не совсем так. Порой встречались иронические и даже неодобрительные суждения. Сохранился"ответ зрителя о драме Кукольника: ...зимою давали трагедию Нестора Васильевича Кукольника, которая имела большой успех, по достоинству литературному, и по многим отношениям. Не видавший оную спрашивал у другого:Остроумный ответ анонима живо передает неофициальные толки о пьесе. Среди петербургских журналистов трагедия также вызвала порицания. В.Д. Комовский писал 20 февраля брату поэта Языкова - А.М. Языкову, что редактор "Библиотеки для чтения" Сенковский "хочет разбранить Руку всевышнего и бранит - покуда еще непечатно" [22]. Знаменитый барон Брамбеус (это был псевдоним Сенковского) так и не выступил: счел за благо не перечить мнению царя. Между тем до Москвы отзыв Николая I дошел с запозданием, роковым для "Московского телеграфа".- Вы видели "Рука всевышнего отечество спасла?
- Видел.
-Как она вам полюбилась, хороша ли?
- Ложа моя была в углу, я сидел на правой стороне и мне руки-то совсем не видать былo!" [21]
"Прочитав драму Кукольника, Николай Алексеевич, - повествует его брат, - написал разбор ее, где строго выставлял и осуждал недостатки произведения, не лишенного достоинств, но составленного по ложной системе <...> Особенно резко отозвался он о ложном патриотизме, который преувеличениями своими вредит истине".И далее Ксенофонт Полевой подробно рассказывает, что брат его, приехав по своим делам в столицу, был оглушен неслыханным триумфом Кукольника. Незадачливый издатель "Московского телеграфа" отправился в театр посмотреть на пьесу"и был изумлен съездом публики в театр и необыкновенными изъявлениями одобрения пьесе. Первые ряды кресел были заняты высшими сановниками и генералами, ложи наполнены знатными семействами, и зала потрясалась от рукоплесканий. Николай Алексеевич повстречался в театре с одним из влиятельных людей, благосклонных к нему, и почти первым вопросом того было: «Напишет ли он в "Московском телеграфе" одобрительное известие о патриотической пьесе Кукольника?»Полевой поспешил исполнить "просьбу" влиятельного знакомца; да и как было не поспешить? Ведь влиятельным знакомцем был не кто иной, как Бенкендорф.Брат мой отвечал, что он уже написал разбор ее по печатному экземпляру, полученному им в Москве, но что этот разбор будет вовсе не одобрительным для пьесы.
«И разбор ваш уже напечатан?» - спросил тот же знакомый.
«Нет еще: однако я уже отдал его для печатания в моем журнале»
«Что вы делаете, Николай Алексеевич!» - воскликнул чуть не с ужасом влиятельный знакомец.
«Вы видите, как принимают здесь пьесу; надобно соображаться с этим мнением; иначе вы навлечете себе страшные неприятности!.. Прошу вас, как искренний ваш доброжелатель, примите самые деятельные меры, чтобы ваш неодобрительный разбор "Руки всевышнего" не появлялся в печати. Напишите, если можно, завтра же, чтобы в Москве не печатали его»" [23].
Предупреждение шефа жандармов запоздало: книжка журнала с рецензией на драму Кукольника уже была почти полностью разослана подписчикам.
По возвращении в Москву Полевой вскоре был вызван в столицу. Ехал он на перекладных, в сопровождении жандармского унтер-офицера. В столице Полевой был помещен на квартире Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов. Вскоре ему было приказано явиться на дом к Бенкендорфу. Когда Полевой вошел в кабинет шефа жандармов, там уже находился Уваров. Начался допрос. Обвинителем выступал Уваров, а Бенкендорф "останавливал резкие выходки и обвинения министра народного просвещения". Уваров начал с рецензии на драму Кукольника. Полевой смело отбивался: "Более и более одушевляясь, он развил свой взгляд так убедительно, что граф Бенкендорф стал поддерживать его и иногда возражать Уварову..." [24] Продолжение допроса перенесли на следующий вечер.
Уваров привез толстую тетрадь выписок из "Московского телеграфа" - вот когда пригодилось служебное рвение Брунова - и стал обвинять Полевого в неблагонадежном направлении журнала...
В пику Уварову Бенкендорф постарался смягчить участь Полевого, в чем немного и преуспел, но спасти журнал не смог: 3 апреля 1834 года по высочайшему повелению "Московский телеграф" был закрыт.
Приступая вскоре к изданию "Исторической библиотеки", Полевой писал, "что непредвиденные и независящие от воли моей обстоятельства заставляют меня прекратить издание Московского телеграфа...". По приказу Уварова объяснение Полевого тщательно отредактировали и до читателей оно дошло в сокращенном и измененном виде: "по причине прекращения вышеозначенного повременного издания" [25].
Трусливая увертка Уварова никого не обманула. Публика отлично знала, что "Московский телеграф" умер насильственной смертью. В Москве и в Петербурге пошла по рукам анонимная эпиграмма:
Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого удушила.Закрытие "Московского телеграфа" за недоброжелательный отзыв о пьесе Кукольника возмутило даже тех, кто по своим общественным взглядам не симпатизировал Полевому. Консервативно настроенный сенатор К.Н. Лебедев записал в свой дневник:
"Запретили «Телеграф», Это. было самое страшное запрещение. Давно бы надобно было прекратить это назойливое издание, где вздор говорили с такою дерзостью и где порицали всякий труд, всякое положительное знание; но запретить его за критику на драму г. Кукольника, которую я не читал и которую, начав читать после запрещения «Телеграфа» не мог кончить - этого я до сих пор не понимаю. Между тем сколько было толков, и не они ли способствовали решительному непредставлению драмы, которая без этого, может быть, удержалась бы на несколько времени из приличия, если это было нужно для правительства?" [26].Эта дневниковая запись имеет двоякий интерес. Начнем с того, что современники сочли курьезным повод, избранный для устранения "Московского телеграфа". Правительство вело двойную игру: по сути дела, оно закрыло журнал Н.А. Полевого за его оппозиционность, за прославление буржуазных порядков Западной Европы, за нескрываемое сочувствие к требованиям и нуждам третьего сословия; формально же "Московский телеграф" был запрещен за отзыв о пьесе Кукольника. Общественному мнению претило двуличие правительства.Однако, как мы узнаем из записи К.Н. Лебедева, публика помимо скрытого раздражения и открыто выразила свое несогласие с действиями правительства: она перестала посещать представления, и пьеса Кукольника бесславно пала.
Знаменателен отзыв Пушкина - 7 апреля 1834 года он записал в дневнике:
"«Телеграф» запрещен. Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу. <...> Жуковский говорит: - Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею что запретили. «Телеграф» достоин был участи своей; мудрено с большей наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства, но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска".В этом неприязненном отзыве явно проступает грань, отделившая в 1830-е годы дворянскую оппозицию от буржуазной. Пушкин и Жуковский расценивали запрет "Московского телеграфа" как удар по враждебному им журналу. Это было отрадно. В то же время подобная мера правительства еще более стесняла отечественную прессу. Это было горько.Если среди передовой дворянской общественности конец "Московского телеграфа" вызвал двойственную реакцию, то представители третьего сословия безоговорочно сочувствовали Полевому. Директор Московской губернской гимназии Матвей Алексеевич Окулов писал 25 апреля 1834 года Уварову:
"Что же касается до запрещения журнала Полевого, то почти все единогласно говорят, что давно бы было пора; ибо ни одной статьи в оном никогда не было писано без цели вредной, а класс купечества весьма недоволен и говорит, что Полевому от того запретили, что он всех умнее. В Москве вот все что мог узнать, и все удивляются, что и Надеждина до сих пор не запрещают" [27].В последней фразе намек на журнал Н.И. Надеждина "Телескоп". Корреспондент Уварова словно в воду глядел: два года спустя за опубликование "Философического письма" Чаадаева журнал Надеждина был также запрещен.В 1832 году был закрыт "Европеец", в 1834 году - "Московский телеграф" [28], в 1836 году - "Телескоп". Так методично и последовательно расправлялось царское правительство с передовыми печатными органами.
Литература
1. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе. Спб., 1889. Т. 2. С. 382-386.
2. ЦГАОР, ф. 109, оп. 3, № 584.
3. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, №2410, л. 1-4. Впервые это письмо было опубликовано нами по копии, на которой значилось, что автором письма является Бенкендорф // См.: Гиллельсон М. И. Письмо А. X. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о "Московском телеграфе" / Пушкин: Исслед. и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960. Т. 3. с. 418_429. Позднее нами был разыскан подлинник этого письма, писанный рукою Д. Н. Блудова (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, №1467, л. 12-14). Оно почти не имеет отличий от опубликованной копии; в начале письма обозначена дата "30 августа 1827", а в конце дописано: "Весь ваш Блудов". По-видимому, Бенкендорф передал Блудову записки фон Фока о "Московском телеграфе" с просьбой написать Вяземскому "увещевательное" письмо, что и было исполнено.
4. Моск. телеграф. 1827. Ч. 13. Отд. 1. № 1. С. 6-7.
6. Там же. Ч. 14. Отд. 1. №7. С. 195-196.
7. ЦГАОР, 1 экспедиция III Отделения, 1829 года, № 131, л. 1-2.
10. Глинка С. Н. Записки. Спб., 1895. С. 76.
15. Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 255.
17. Глинка С. Н. Записки. Спб., 1895. С. 356-357.
18. Николай Полевой. Указ. соч. С. 478.
19. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 2: С. 415-420, 422, 428.
20. Николай Полевой. Указ. соч. С. 316.
22. Там же, ф. 348, шифр 19.4.122.
23. Николай Полевой. Указ. соч. С. 316-317.
25. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1243, л. 5.
26. Рус. архив. 1910. №7. С. 365.
27. Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, ф. 17, №71, л. 141 об.
28. В. Г. Березина опубликовала новые интересные материалы о конце "Московского телеграфа". См.: Березина В. Г. Из цензурной истории журнала "Московский телеграф". 1. Неизвестный номер "Московского телеграфа" за 1833 год; 2. К рецензии Н. А. Полевого на пьесу Н. В. Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла" // Рус. лит. 1982. № 4. С. 164-173.